 Belarus
BelarusLife Under the Table
On the eve of the unknown the Belarusian writer is playing with the past
20 December 2023 Author's Belarusian family© Image from the author’s private archive
Author's Belarusian family© Image from the author’s private archive
Вместо того чтобы подводить (преимущественно печальные) «итоги года», мы решили разместить здесь текст беларуской писательницы, которая в своих произведениях, уже переведенных на многие языки, рассказывает о собственной семье и родном городе в Западной Беларуси. Поиск и сохранение воспоминаний — ее способ переживать повседневность. В этом поэтическом очерке ТС играет с прошлым, одевает и кормит традиционными блюдами своих мертвых.
Беларуская English Deutsch Русский
Однажды маму навестила знакомая, мамина ровесница.
Квартира до потолка наполнилась сложным сочетанием запахов: валерьянка, жареный лук, душистая парфюмерия. Парфюмерия, скорее всего, недешевая. Может и французская, — но было ее с избытком. Я решила сбежать, приготовив им кофе с бутербродами. Когда обувалась в передней, уловила кусок беседы:
— Они совсем не такие, как мы, — сказала мама.
— Пустота одна, — поддакнула ровесница.
— Белье постельное не крахмалят. Не утюжат. Не понимаю.
— Наглость! Наглость!
У ровесницы, несмотря на возраст, косица толстая, закручена на затылке в тяжелую спираль цвета осенней тучи. Мамина коротко стриженая голова — белая. Снежное облако. Они понимают друг друга с полуслова.
Если я чего-то боялась в детстве, так это стать официанткой.
Было интересно разобраться, почему. Я надеялась, что разговор с официанткой поможет. А она взяла и скоропостижно умерла. Единственная знакомая официантка. Из города Трускавец. Это слово мне очень нравилось — как и сама «трускавка», клубника
∗∗∗
Мама очень серьезно относилась к постельному белью.
Перед стиркой белье долго кипятили с натертым на крупной терке хозяйственным мылом, деревянной скалкой время от времени заталкивая обратно в выварку набухшие пузыри белой ткани, которые сопротивлялись так, будто хотели из выварки на свободу… А там скалка. После кипячения стирали с помощью стиральной доски. У нас не было стиральной машинки. Потом крахмалили, полоскали и отжимали голыми руками.
Затем раскладывался из желтого дерева
Для меня начиналась лучшая часть процесса — обустройство жизни под столом.
Это происходило всегда, когда мама на протяжении нескольких дней (тогда мне казалось — месяцев, лет, веков) утюжила белую крахмальную гору. Я расставляла под столом кукольную мебель. Ее было достаточно, чтобы рассадить всех кукол на игрушечные стульчики. Уложить самых маленьких в кроватки. Самых крупных пупсиков собрать вокруг кухонного стола на табуретках. На кухне почетное место занимал креденс (так на польский манер у нас называют буфет) не с нарисованными, как это часто бывает в кукольной мебели, а с настоящими выдвижными ящиками-шуфлядками (у нас никогда не говорят «выдвижной ящик», всегда — шуфлядка). Стояла газовая плита с железными конфорками. Жаль, зажечь их было нельзя. И холодильник. Он не подключался к электричеству. Меня это не беспокоило. Однажды я разложила по полкам недоеденную пупсиками еду. Когда про нее вспомнила, там всё позеленело и высохло. Приняло новую, вполне приемлемую в художественном отношении, форму.
Игрушечная мебель была деревянная.
Всё было как настоящее. Куклы за игрушечным детским столиком под раскладным взрослым столом ждали еды. Во время обеда я припрятывала объедки, чтобы отнести за игрушечный столик. Я была у них официанткой. Репетировала на тот ужасный случай, если жизнь ошибется. Свернет не туда. И придется иметь дело с тем, что пугает.
Толстая коса знакомой из Трускавца свидетельствовала об обратном. Что работа неплохая, если волосы не вылезли. Но тогда, под столом, кто ж об этом знал. Я жила там в тихой полутьме. Со всех сторон нависало бабушкино покрывало. Сверху мама прыскала на непослушное белье. И оно всегда поддавалось. Выравнивалось. Маме, чтобы утюжить, ничего не нужно было, кроме бормотания радиоточки. Мы не переговаривались. Каждый на своем уровне знал о существовании соседа. Этого было достаточно. Идеальная жизнь. Часть меня осталась там навсегда.
∗∗∗
Там у пупсиков обязательно были имена.
Их могли звать Саша, Юра, Саша, Юра. Нет, это не «повторки». Это имена бывших одноклассников. И это четыре разных парня. Два Саши и два Юры, которые умерли друг за другом очень скоро после школы. Один Саша — самый красивый мальчик в классе, другой — нервный, худой, с кудрями. О его безвременной кончине я узнала на новом кладбище через 35 лет после окончания школы, когда случайно увидела кудрявую голову на памятнике. Один Юра плохо учился, другой мне нравился. Все не дожили до тридцати. По разным причинам, но всех их объединяет злоупотребление алкоголем.
Я угощу их тонкими блинами со сливочным маслом и сахаром.
Воскресными утрами мама жарила целую стопку блинов, на каждый блин намазывался кусочек сливочного масла, сверху насыпался сахар. Затем стопку разрезали, как торт.
Пупсики одинаковые, и могут быть одеты в одинаковую синюю школьную форму.
Только у одного, который нравился, костюм был серый, но снится всегда в черном.
Приходит раз вечером. Держит сетку с апельсинами в сумеречном коридоре. Я спрашиваю:
— Почему тебя так долго не было? Ты ведь знал, что я ждала.
— Дела задержали.
Я не спрашиваю, что за дела на том свете. Спрашивать об этом неприлично по законам сна. Даже запрещено. Просто обнимаю его. Целую в самые губы. Он ведет себя сдержанно, будто пришел навестить в больницу. Скоро уходит. Я пробую не отпускать, держу за руку. Прозрачная рука остается в руке. Сам исчезает.
∗∗∗
Пупсиков и куколок можно назвать прозвищами польской родни.
Никто из нас не знал, что они были подпольщиками Армии Крайовой во время Второй мировой. Вся семья. Квартира в Белостоке была явочной. Все имели подпольные клички. Двоюродную бабушку звали «Матка», мужа — «Гетман», дочерей — «Кристина» и «Крыничанька», сыновей — «Блакитный» и «Юрек». Все получили Кресты Заслуги с мечами. Бабушка — золотой, дочери — серебряные, отец вместе с сыновьями — бронзовые. Явное предпочтение женщинам по наградам. На их могилах написаны подпольные клички и выгравированы кресты заслуги.
Чтобы рассадить польскую родню, нужно отсадить от стола одного пупсика и подсадить трех куколок, добавив два кресла из гостинного гарнитура. И сшить им соответствующие накидки: золотую — бабушке, серебряную — тетям, бронзовую — дядям и дедушке.
 Author's Polish family© Image from the author’s private archive
Author's Polish family© Image from the author’s private archiveУ меня имелась игрушечная швейная машинка.
Шила, как настоящая. Мама научила шить на машинке сарафаны и чепчики из ситца. Умея шить чепчик, смастерить накидку проще простого. Заложить и прострочить с одного края материи полосочку, вдеть шнурок, чтобы завязать на шее. Золотые, серебряные, бронзовые куски ткани — это надо подумать, где взять. Детьми мы ходили за дом под военное ателье. Оттуда, бывало, выбрасывали обрезки. Время от времени среди пошивочного мусора обнаруживались куски натуральной кожи. Даже желтой кожи хороший кусок я нашла однажды. Желтый мог бы заменить золотой. Бабушке бы понравилось, желтая кожа не может не нравиться.
Польской родне отнесу «капусняк» — густой суп из кислой капусты с обязательным добавлением сухих грибов, преимущественно белых. Это было любимое блюдо мамы по рецепту польской бабушки. Польскую бабушку я видела только однажды. Она была незаурядной личностью. Бабушка никогда не снимала раскосые солнечные очки, даже в помещении. Носила
Время от времени подружки со двора заглядывали ко мне под стол.
Мы бегали друг к другу через подвал. При каждой квартире под домом есть подвалы, где хранятся консервации, лыжи, санки, картошка. Пол там земляной. Свет в коридоре подвала не горел. Бегать было страшно, но так путь гораздо короче, чем по улице.
∗∗∗
Родню папы под столом я нарядила бы в белое.
Потому что, во-первых, на снимке 1919 года, сделанном в Витебске, прабабушка в платье белого цвета с мережкой, и папа,
 Author's father's grandmother (left)© Image from the author’s private archive
Author's father's grandmother (left)© Image from the author’s private archiveБабушка была похожа на эстрадную певицу Клавдию Шульженко.
Я маленькая всем так и говорила, что моя бабушка — Клавдия Шульженко. Дедушка был начальником связи во время войны, дивизию вывел из окружения, подняв солдат на рукопашный бой с противником. Получил орден Красного Знамени. За то, что наладил связь в сложных боевых условиях, был награжден орденом Красной Звезды. В детстве я ничего этого не знала. Дедушка курил трубку. Мне нравился запах табака на всю маленькую хрущевку на окраине Риги. Когда дедушку хоронили, солдаты несли перед гробом множество наград на красных подушечках. Меня это не интересовало в восемь лет. Когда дедушку закапывали, солдаты стреляли в воздух. И было у них с рижской бабушкой три сына. Значит, посажу две куклы — бабушка, прабабушка и шесть пупсиков — прадедушка-офицер, прадедушка-отчим-инженер и дедушка-связист с сыновьями.
 Author's Latvian family© Image from the author’s private archive
Author's Latvian family© Image from the author’s private archiveПокормлю их рижскими бутербродами.
Лучший ужин, быстрый и простой. На черный хлеб — сливочное масло, на сливочное масло — распластанная килька, на кильку — вареное яйцо кружочками, на яйцо — кольца лука.
Я дала бы им одно на всех имя: Мондростки.
Это название дворянского герба. Прабабушка была дворянкой по происхождению. И когда узнали в военном штабе — поскольку дедушка служил в армии с 1929 года — что жена скрывает настоящую фамилию, дедушку заставляли развестись, оставить беременную жену. «В противном случае результаты будут самыми непредсказуемыми». Дедушку спасла война. Он стал героем. Ему простили строптивость.
∗∗∗
Мамина родня — самая большая.
Семеро детей. Мама, папа. На местный манер: мамуся и татусь. С ними жили родители маминого татуся, мои прабабушка и прадедушка. И его родная сестра. Все теснились в деревенском доме из двух комнат. Надеюсь, что комнаты были большими. Внутри я ни разу не была, хотя дом над рекой стоит до сих пор. Однажды просила теперешних жильцов, чтоб пустили посмотреть, как там что. Не позволили. Расспросили о родных, я подробно отчиталась. Всё равно не прониклись доверием. Зря старалась.
Сестра дедушки после первого неудачного замужества долго оставалась в семье брата.
Через несколько дней после свадьбы, когда совсем юную ее отдали за соседа, вернулась домой. Никому не сказала причины. В первые дни войны муж, уже бывший, погиб. Единственный из деревни. Она тогда высказалась: «Наконец падла сдохла».
Все они были простые крестьяне.
Работали не разгибаясь от зари до первой звезды. Потом пришли Советы. Забрали коня в колхоз. Дедушка сам его отвел в общественную конюшню. Вернувшись, сел и заплакал. Он мог бы выпить, чтобы полегчало. Но дедушка не употреблял алкоголь. Мне вспомнилось знаменитое письмо американскому президенту от вождя одного индейского племени, которое переселяли в резервацию. Как раз подходит дедушке: «Что означает попрощаться с быстрой лошадью наезднику? Это означает, что жизнь заканчивается и начинается выживание».
Разобрали гумно.
Бросили гнить за деревней в лопухи по приказу колхозного начальства. Гумно было построено еще до войны. Дедушке помогал друг из деревни за рекой. Это я узнала случайно от мамы, когда портниха очень дешево утеплила мне зимнее пальто. Похвасталась маме. Она спрашивает: «Кто это тебе?» — «Ты не знаешь». — «Всё равно скажи». Я сказала. «Так ее дед с нашим татусем ставил гумно еще перед войной. Хорошее было гумно, светлое, просторное». Так я в очередной раз убедилась, что мама знает всё обо всех. На это самое гумно дедушка привел из города прятать маленькую дочку богатого друга-еврея во время войны. Босые, загорелые до черноты, в цыпках и коросте дети играли с тонкокожей девочкой в кружевах и лаковых туфельках, как с дорогой куклой. Прабабушка и прадедушка нарядную девочку не видели. Умерли по очереди перед самой войной. Не узнали (повезло!), что богатый друг-еврей скоро забрал ее, чтобы отвезти в более надежное место — а там их поймали и расстреляли.
Еще перед войной прабабушка и прадедушка сфотографировались в еврейском фотоателье.
 Author's great-grandmother© Image from the author’s private archive
Author's great-grandmother© Image from the author’s private archive Author's great-grandfather© Image from the author’s private archive
Author's great-grandfather© Image from the author’s private archiveВ 1933 году. Это единственные их фотографии. Плотные, сепийные, мастерски отретушированные два небольших портрета. Видны каждая морщинка, седая волосинка. Прадедушке на снимке 82 года, бабушка выглядит ровесницей. Даже старше. Год ее рождения неизвестен. Прадедушка родился в 1851 году, умер в 1941-м. Прожил ровно 90 лет. Никто в родне пока не дожил до прадедушкиных лет.
У прадедушки гладкий лоб, у жены не такой. Темнее седина. У прабабушки в белой причёске идеальный пробор, тонкие губы. У прадеда пухлый рот. Точнее, нижняя губа. Над верхней — пышные усы кончиками вверх. Франт. Прадедушка слегка улыбается. Я только сейчас, разглядывая фотографии, вижу, что прадедушка похож на Берта Ланкастера, американскую кинозвезду, всегда с улыбкой на сто зубов в два ряда. Прадедушкиных зубов не видно, но хочется предполагать, что и зубами они схожи. У мамы, например, были идеальные до самой смерти. Прабабушка — копия блаженная Мать Тереза. Рот скорбный, уголки опущены вниз.
Бабушка и дедушка тоже сфотографировались вместе лишь однажды.
Это не парные фотографии, как у прабабушки с прадедушкой. Вместе стоят совсем молодые, нарядно одетые в свекольной грядке, на фоне молодых кустов сирени. Темное платье, темный костюм. Руки у обоих свисают по бокам, как чужие, будто инструменты. Руки и были инструментами. Смотрят в объектив с хорошо спрятанной усталостью, с плохо скрываемым достоинством.
 Author's grandmother and grandfather© Image from the author’s private archive
Author's grandmother and grandfather© Image from the author’s private archiveЕсть фотография уже послевоенная на этом же месте.
Бабушка со всеми детьми на фоне той же сирени. Той, да не совсем такой. Здесь кусты сирени густо разрослись. Выражение лица у бабушки такое же. Оно сохранится до смерти. Девочки в светлых платьях, мальчики в белых рубашках. Бабушка одета в клетчатый костюм. Я нарядила бы семерых кукол и пятерых пупсиков в беларускую народную одежду. Они ее никогда не носили. И мне жаль.
Одно имя для всех: Полинары. По прадедушке Аполлинарию. Даже меня
Им я подам картофельную кишку. Особое, редкое блюдо: картофель на мелкую терку, в картофель добавить жареные шкварки с луком, все вместе запихать в свиную кишку — и в духовку на час. Придется им потерпеть дольше других, но есть ради чего.
∗∗∗
Вот мама закончила утюжить.
Стол отправился на место, за дверь спальни. Куколки и пупсики щурятся от яркого дневного света. Отвыкли. Столько времени провели в темноте под столом, едва не ослепли.
 Belarus
BelarusOn the eve of the unknown the Belarusian writer is playing with the past
20 December 2023 Armenia
ArmeniaRussia used the Karabakh conflict as a bargaining chip to advance its geopolitical interests
12 December 2023 Georgia
GeorgiaThe history of Georgian post-constructivism
11 December 2023 Moldova
MoldovaWhat is going on with the Moldovan Orthodox Church
4 December 2023 Georgia
GeorgiaGeorgian “political Orthodoxy” and Russia
28 November 2023 Belarus
BelarusCan Belarusians critisise Western policies?
22 November 2023 Moldova
MoldovaAbout the underestimated danger of division into “us” and “them”
20 November 2023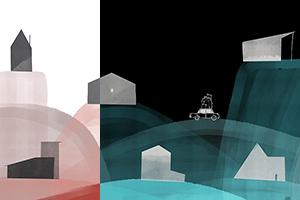 Armenia
ArmeniaThe Karabakh conflict instigated multi-stage forced resettlement of Armenians
16 November 2023 Armenia
Armeniaand you said: there is no history, there are histories
6 November 2023 Georgia
Georgia‘Majoritarianism’ and ‘juridification’ in the service of clan governance
31 October 2023 Belarus
BelarusProminent political prisoners in Belarus have been completely cut off from any contact with the outside world for over six months
26 October 2023 Georgia
GeorgiaThe History of Cooperation and Resistance
20 October 2023